Где грань между модой на «диагнозы» и реальной проблемой?

Депрессия как тренд, панические атаки для статуса, биполярное расстройство для красивого хештега. Поколение Z (зумеры) массово говорит на языке психиатрии, штудируя тесты из интернета и ставя себе несуществующие диагнозы. Одни эксперты видят в этом опасную романтизацию болезней и побег от ответственности, другие – прогресс: стигма рушится, а молодые люди впервые получили язык для описания своих чувств.
Но где грань между здоровой рефлексией и вредной симуляцией? И почему молодые люди боятся признаться, что у них может быть «все в порядке»? Разбираемся вместе с клиническими психологами и психотерапевтами в том, что стоит за новым трендом на диагнозы.
Почему поколение Z массово увлекается самодиагностикой психических расстройств?
Поколение зумеров, рожденное, по разным классификациям, примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов, начало активно ставить себе психические диагнозы. Что стоит за этим – возросшая осведомленность о ментальном здоровье или новая форма подросткового бунта?
История, скорее, про то, что подростки впитывают сленг и термины из психологической среды, не до конца понимая, о чем речь, уверяет Татьяна Пушкова, клинический психолог, социальный педагог, автор книги «Родители и дети: от конфликтов к доверию» (12+). Они растут в мире, где психологизмы становятся фоном. А эмоциональный интеллект – часть базовой гигиены. И многие из зумеров неплохо отслеживают свое состояние. Поэтому когда в речи у подростков проскальзывают такие слова как «шиза», «биполярочка», «депра», если слушать их внимательнее, становится ясно: они не про диагноз, а про поведение. «Биполярочка» – это, по сути, «у меня сегодня качели», «шиза» – «говорит ерунду, не пойми откуда».
«Если заглянуть глубже – становится очевидно: подростки используют термины психиатрии, чтобы нащупать себя и определить свой характер. Это не болезнь, а попытка понять: а я вообще кто? И это абсолютно естественная потребность у молодежи во все времена», – подчеркнула Татьяна Пушкова.

Подростковый психолог-психотерапевт, руководитель сети центров помощи трудным подросткам Анна Хоботова же уверяет, что постановка диагнозов среди молодежи в большей степени идет от родителей и семьи. Как правило, это гиперопекающие семьи, где родители носятся со своим ребенком. И малейший чих или подозрение на что-либо, в том числе в области психиатрии или неврологии, вызывает у них панику. Они начинают ходить по врачам, выяснять, что не так, ребенку назначают таблетки. И все эти диагнозы постоянно обсуждаются в семье.
«Иногда бывают случаи, с которыми я сталкивалась: ребенок психически здоров, может быть, есть легкие неврологические особенности, но в целом он просто избалован, невоспитан, у него проблемы с границами, нет авторитетов. Родители оправдывают его агрессию, нарушение границ, поведение в школе, во дворе, в секциях и дома якобы имеющимися психиатрическими проблемами. Это часто история про отрицание – родителям проще сказать, что ребенок болен, чем признать, что они упустили воспитание и не могут справиться», – уверена эксперт.
Такие дети иногда попадают с «диагнозами» к специалистам, а потом выясняется, что они просто избалованы.
«Эти дети, как правило, хорошо осведомлены о своих «диагнозах», активно интересуются ими, читают в интернете и используют их как оправдание своего поведения. Это тоже идет из семьи. Я не встречала случаев, чтобы ребенок из благополучной, здоровой семьи вдруг сам начал себе ставить диагнозы и интересоваться психиатрией», – добавила Анна Хоботова.
Есть подростки, которые на фоне постоянного лечения и приема лекарств формируют зависимость от препаратов. Психиатрические препараты по рецепту могут вызывать эйфорию, галлюцинации, сильное успокоение. Подростки начинают манипулировать, придумывать несуществующие диагнозы, чтобы продолжать прием. Специалисты при этом видят, что симптоматика надуманная, а истинная причина – зависимость.

Почему среди зумеров стало модным «казаться больным»?
Но почему в последнее время молодежь хочет казаться «нетакуськами» – «больными» ментально и не такими как все. Это поиск идентичности, способ привлечь внимание или реакция на давление «идеальной жизни» из соцсетей?
Во все времена, говорит Татьяна Пушкова, у подростков и не только была тенденция использовать болезнь как способ привлечь внимание. Здесь вам и ипохондрия и меланхолия. Это старая добрая стратегия адаптации: ты плывешь как жертва. И тогда тебя спасают. Сегодня это просто переоделось в другие слова. Раньше – «меня никто не любит», теперь – «у меня депрессивный эпизод». Но суть та же: возьмите меня на ручки, я сам не справляюсь, или просто не хочу справляться.
«Важно понимать, что зумеры действительно гораздо внимательнее к своему состоянию, чем их родители-бумеры. Они умеют говорить: «мне плохо», они не боятся обратиться за помощью. Это не про тренд быть больным. Это про то, что стигма исчезает. Поколение Z впервые учится называть свои чувства и признавать, что нужна поддержка – и это нормально», – считает Татьяна Пушкова.
Анна Хоботова говорит – бывает, что подростки «косят» под депрессию, царапают себя, уверяют, что хотят умереть. Это скорее попытка самоидентификации и желание выделиться. При этом никто действительно не совершает попыток уйти из жизни. А, возможно, это способ привлечь к себе внимание взрослых и сверстников.
«Кто много об этом говорит, как правило, этого не делает. Это способ быть не как все. Вот дословно, что мне сказал один из подростков: «у меня депрессия, я ничтожество, я псих, я пью таблетки». Иногда за этим стоит некий подростковый тренд. Например, если ребенок попал в компанию «грустных эмо», где все пьют препараты, он тоже начинает прикидываться, чтобы быть «своим», – добавила психолог.
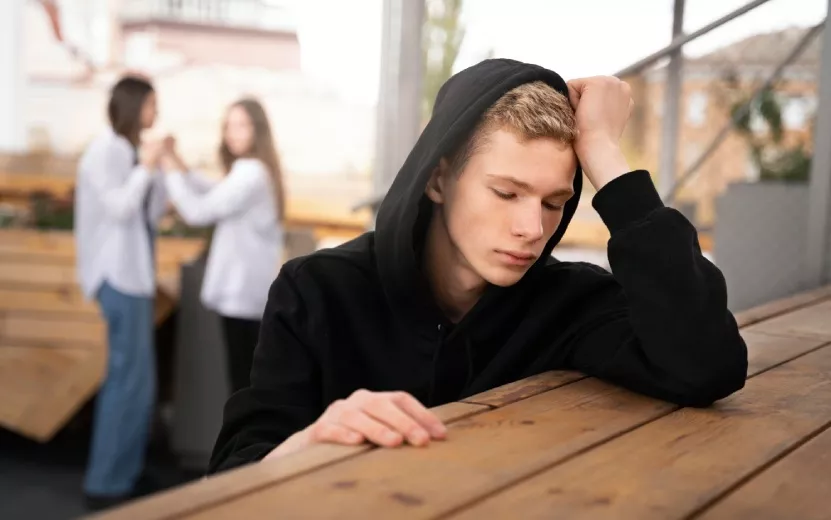
Как соцсети и популярный контент влияют на романтизацию психических заболеваний?
Шизофрения, депрессия и биполярное расстройство благодаря тик-ток-психотерапевтам и мемам про тревожность внезапно стали «трендовыми». Этот вопрос пугает взрослых – особенно тех, кто в своей юности понятия не имели, что такое «паническая атака», и с депрессией шли копать картошку.
«Кажется диким, что подросток с айфоном, интернетом и всеми благами цивилизации вдруг называет себя больным. Но если чуть притормозить и присмотреться – станет ясно: это не романтизация и не болезнь. Это попытка хоть как-то объяснить себе свои внутренние переживания. А контент в соцсетях просто дает язык описания. У подростка всплески эмоций? Вот есть об этом мем. У подростка пустота внутри? Вот тебе видео, где кто-то точно так же описывает свое состояние. Это форма описания своих состояний, хоть и не всегда корректная», – уверяет Татьяна Пушкова.
Важно понимать, советует Анна Хоботова: подростку нужно выделяться и сепарироваться. И если у него нет увлечений и достижений, он может «выделяться» через болезнь.
«Я много лет наблюдаю подростков с реальными диагнозами. Все психиатры в один голос говорят: обмануть врача невозможно. Можно начитаться, изображать симптомы, но специалист распознает симуляцию. Точно так же наоборот – подростки, у которых действительно есть диагнозы, часто считают себя абсолютно здоровыми. Только специалист, а иногда не один, может определить наличие психиатрии», – сказала психотерапевт.
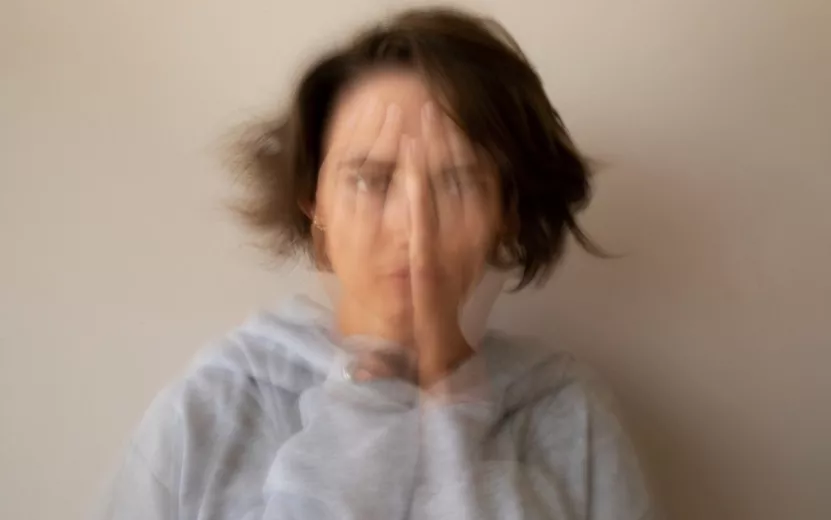
Почему некоторые подростки боятся признаться, что у них все в порядке, будто теперь это стыдно?
Если подросток боится сказать, что у него все хорошо – это и есть тревожный звоночек, подчеркивает Татьяна Пушкова. Потому что за этим страхом может скрываться зависимость от мнения референтной группы. А может – страх быть отвергнутым как «ненастоящим» или «не таким, как все». В подростковом мире важно быть в стае. Если в стае принято страдать – тот, кто этого не делает, становится чужим.
За этим стоит и вторичная выгода: быть «особенным», получать поддержку, не брать на себя ответственность. И тут уже речь не о «моде на болезнь», а о реальной проблеме. Потому что здоровый подросток не боится быть здоровым.
Чем опасна привычка ставить себе диагнозы по тестам из интернета? Иногда самодиагностика приводит к реальным проблемам – от неправильного лечения до навязывания себе симптомов.
«Когда я работала в армии, мы никогда не использовали один тест. Всегда была батарея из нескольких опросников, которые перекрестно проверяли друг друга. Один показывал уровень депрессии, другой – риск самоубийства, третий – устойчивость. Только в совокупности это давало какую-то картину. А теперь представьте: подросток проходит один тест на «депрессию» из интернета. Там нет шкал, валидности, профессионального анализа. Он ставит себе ярлык – и пошло-поехало. Иногда просто ради интереса. Иногда пугается. Иногда начинает примерять поведение, соответствующее диагнозу», – подчеркнула Татьяна Пушкова.
Поэтому так важно – если уже есть тревога – не гуглить, а идти к специалисту. Не обязательно сразу к психиатру. Можно к клиническому психологу – хотя бы для базовой диагностики.
Как отличить реальные проблемы от мнимых?
Что должно насторожить молодого человека, который думает, что у него расстройство, и куда идти за помощью?
Если у подростка:
-
Проблемы со сном -
Резкие качели настроения -
Вспышки агрессии -
Полная эмоциональная обесточенность -
Навязчивые мысли -
Трудности с концентрацией -
Самоповреждающее поведение -
Мысли о вреде себе -
Резкая зависимость от чужого мнения
Это уже повод срочно идти к специалисту.
Очень важно, добавила Татьяна Пушкова, понимать, что в подростковом возрасте могут впервые проявиться психиатрические заболевания. И родителям, и самим подросткам нужно это знать.
«На моей практике были случаи, когда вовремя подключенный психиатр и регулярная работа с психологом помогали предотвратить развитие шизоаффективного расстройства, снизить суицидальные риски и сохранить человеку жизнь. Диагностика – это не про «поймать диагноз», это про лучшее понимание себя. И в подростковом возрасте это критически важно. Потому что, когда человек не знает, кто он – он хватается за чужие ярлыки. И тут наша задача – не ругать, а помочь разобраться: где игра, а где настоящая боль», – сказала Татьяна Пушкова.

Но, как говорит Анна Хоботова, нельзя ставить себе или ребенку диагнозы на основе информации из интернета. Это вредно. Например, психопатия диагностируется только после 12 лет, но признаки могут быть видны раньше: запущенность, проблемы с гигиеной, склонность к бродяжничеству, истерики, которые длятся часами. И эти дети не считают себя странными. Они уверены, что с ними все в порядке – это остальные ненормальные.
«Часто подростки, молодые люди не могут отследить динамику своего состояния. Они не замечают, что полгода назад были активными и веселыми, а теперь лежат целыми днями и ничего не хотят. Это может заметить только кто-то со стороны, например, друзья, родственники. Родители, особенно те, кто каждый день рядом, могут и не заметить изменений, особенно если взгляд у них «замылен». Если подросток начал жить в фантазиях, отказывается воспринимать реальность, выдумывает истории, которые не соответствуют действительности, – повод задуматься», – говорит Анна Хоботова.
Еще несколько признаков, на которые точно стоит обратить внимание:
-
Истерики на пустом месте -
Внезапные разговоры о смерти -
Самоповреждения -
Паранойя -
Бредовые идеи («меня преследуют», «я посланник» и т. д.).
Еще один признак – патологическая страсть к чистоте: многократная уборка, мытье полов, вытирание несуществующей грязи. Или, наоборот, полный бардак и отсутствие ухода за собой. Бывает, что подросток начинает собирать мусор, тащить в дом все подряд – ручки, фантики, пакеты. Это тоже может быть симптом.
Также попытки самолечения, прием препаратов без назначения, отвары, витамины «от головы». Или панические атаки, беспричинный страх, ощущение, что за ним кто-то следит. Это может быть побочным эффектом психоактивных веществ, особенно синтетических. В любом случае требуется лечение через психиатрию и восстановление организма.
Изображение на Freepik
Изображение на Freepik
Изображение на Freepik
Изображение на Freepik
Изображение на Freepik
Изображение на Freepik
