Представьте
себе новостной заголовок ещё лет пять назад: «Google строит
атомную электростанцию». Звучит как завязка для антиутопического романа
или, в лучшем случае, первоапрельская шутка. Но на днях реальность обогнала
самую смелую фантастику. «Корпорация добра», пионер зелёной энергетики и
властелин наших данных, сделала ход конём: объявила, что совместно со
стартапом Kairos Power и энергетической компанией Tennessee Valley
Authority (TVA) начинает строительство в штате Теннесси… атомного
реактора. Не очередной солнечной фермы, не гигантского ветропарка, а
самого настоящего, хоть и малого, ядерного объекта.
И
самое поразительное — реактор строится не для государственных нужд, не
для военных баз и не для освещения городов. Его цель — питать
датацентры Google. Корпоративный атомный реактор для корпоративных
нужд.

В этот момент в голове возникает хор вопросов.
Зачем поисковому
гиганту, который годами инвестировал в возобновляемые источники, вдруг
понадобилась самая демонизированная технология XX века? Почему нельзя
было просто докупить энергии у местных сетей? И главный вопрос: как мы
вообще дошли до жизни такой, где для работы чат-ботов и генераторов
картинок потребовалось расщеплять атом?
Промышленная революция 2.0: на чём она работает?
Давайте
будем честны: то, что мы наблюдаем в последние пару лет с расцветом
нейросетей — не просто «ещё одна технология». Последние пять лет экономика проходит сдвиг,
по своему влиянию на производительность человеческого труда сравнимый разве что с Промышленной революцией
Тогда паровой
двигатель заменил мускульную силу, позволив создавать невиданные доселе
мануфактуры и заводы. Сегодня искусственный интеллект заменяет и
автоматизирует труд интеллектуальный, причём с пугающей скоростью. То,
на что раньше уходили недели работы целых отделов аналитиков, дизайнеров
или программистов, современная нейросеть способна сделать за минуты — причем с каждым годом всё лучше и со всё меньшим числом требующих ручного вмешательства дефектов.

Мы
видим, как ИИ пишет код, создаёт фотореалистичные изображения,
анализирует гигантские массивы данных, проектирует новые лекарства и
управляет сложными логистическими цепочками. Происходит фундаментальное
переосмысление того, что значит «работать».
Но у той, первой
промышленной революции, была своя цена — уголь и пар. Фабрики требовали
топлива, и вся экономика мира перестроилась, чтобы его добывать и
доставлять. У нашей новой революции цена иная, но не менее реальная —
электричество и вычислительные мощности.
С
мощностями всё, казалось бы, понятно. Тайваньский гигант TSMC, мировой
лидер в производстве чипов, едва успевает строить новые корпуса своих
заводов-гигафабрик, чтобы удовлетворить лавинообразный спрос на
ускорители от Nvidia и других компаний. Заказы расписаны на годы вперёд,
а инвесторы вливают в полупроводниковую отрасль сотни миллиардов
долларов. А вот с электричеством — вторым столпом революции — внезапно
возникла… Проблема.
Проблема «аппетита» ИИ
Датацентры,
где живут, обучаются и работают нейросети, — новые фабрики нашего
века.

Фабрики цифровых товаров, если угодно.
Только вместо дымящих труб у них ряды гудящих серверов, а вместо
станков — кластеры из тысяч графических процессоров или NPU (специализированных нейропроцессоров). И аппетит у этих
новых фабрик поистине чудовищный.
Для понимания: процесс
обучения одной-единственной большой языковой модели, вроде тех, что
лежат в основе популярных чат-ботов, может потребовать столько же
электроэнергии, сколько потребляет за то же время небольшой город. А
иногда и больше — всё зависит от архитектуры и сложности модели.
Но
обучение — лишь верхушка айсберга. Дальнейшая работа уже обученной
сети, когда миллионы пользователей по всему миру генерируют картинки,
пишут тексты и задают вопросы, — тоже колоссальная нагрузка. В отличие
от традиционного офиса или завода, датацентр не «уходит домой» в шесть
вечера и не снижает потребление на выходных. Он требует своих мегаватт
24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
Ночью нагрузка на
серверы ИИ может быть ненамного слабее дневной, ведь пока в Калифорнии
спят, в Европе и Азии в самом разгаре рабочий день. При том спрос, как минимум до точки насыщения (до которой пока ой как далеко) растёт не
линейно, а экспоненциально, вместе с проникновением ИИ во все сферы
нашей жизни, от развлечений до науки и промышленности.
Энергосети, застрявшие в прошлом
Проблема
в том, что инфраструктура, которая должна питать эту новую революцию, к
ней откровенно не готова. Энергосети США, да и многих других развитых
стран, — грандиозное, но стареющее наследие XX века. Последний раз их
масштабно модернизировали и расширяли в 60-70-х годах, в эпоху бурного
промышленного роста и веры в бесконечное процветание. Тогда строились
гигантские ГЭС, ТЭС и АЭС, а линии электропередачи опутывали
страну, доставляя дешёвую энергию на заводы и в дома бэби-бумеров.
А
потом наступили 80-е и эпоха деиндустриализации. Тяжёлая
промышленность, главный потребитель энергии, начала переезжать в Азию.
Рост энергопотребления в западном мире замедлился, а местами и вовсе
остановился.
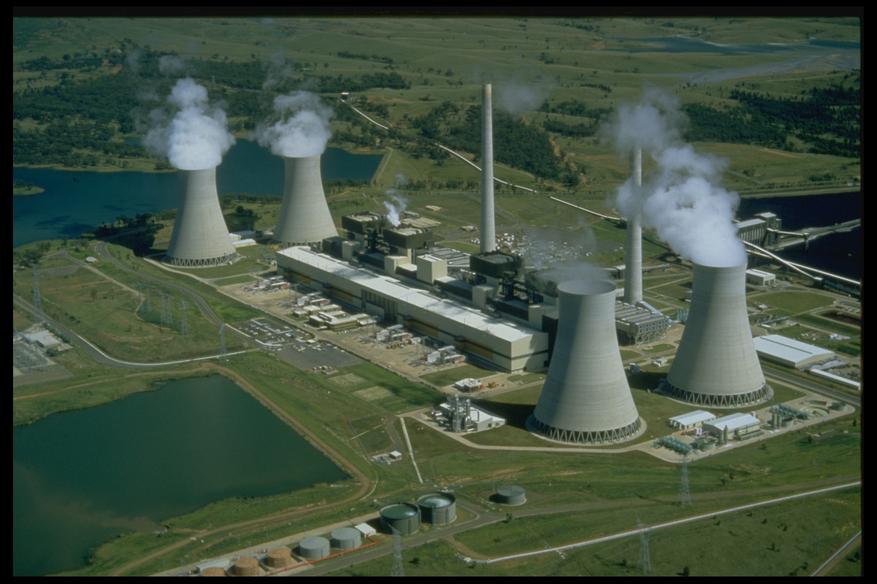
Зачем энергетикам вкладываться в дорогостоящую модернизацию ЛЭП и строительство новых мощностей, если и текущего состояния вещей вполне
хватало для питания офисов и торговых центров? Десятилетиями сети вяло латали, поддерживали в рабочем состоянии, а то и сокращали за нехваткой спроса — но точно не развивали.
И
вот результат: сегодня владельцы новых датацентров всё чаще
сталкиваются с отказами в подключении. Они приходят к местной
энергетической компании с мешком денег и говорят: «Нам нужно 100
мегаватт, вот прямо здесь, и навсегда». А в ответ слышат: «Простите, у
нас в этом районе просто нет свободной мощности. Да, даже если вы оплатите новую линию прямо от электростанции».
Получается
абсурдный парадокс XXI века: у вас есть миллиарды долларов, передовые
технологии и лучшие инженеры мира, но вам буквально некуда воткнуть
вилку. Вы можете построить самую мощную в мире «фабрику интеллекта», но
не сможете её включить. Технологический прогресс упёрся в ржавые опоры
ЛЭП и изношенные подстанции, построенные при президенте Кеннеди.
Это
тупик, который требует неординарных решений. Если гора не идёт к
Магомету, значит, Магомет должен построить собственную гору. Или, в
нашем случае, собственный источник энергии.
Почему «зелёный» путь оказался тупиком
На
первый взгляд, решение кажется очевидным. Весь мир говорит о «зелёном»
переходе, так почему бы не запитать прожорливые датацентры от солнечных
панелей и ветряных турбин? Google и другие компании уже много лет
инвестируют в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и гордятся своими
«углеродно-нейтральными» операциями. Но здесь дьявол, как всегда,
кроется в деталях. Для питания монстров ИИ такой подход, увы, подходит слабо.
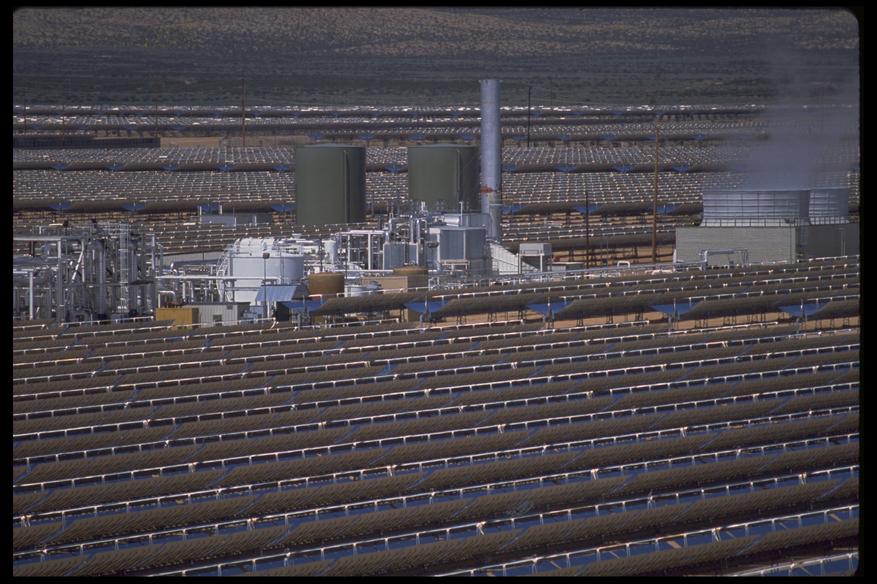
Главный
и неустранимый недостаток солнечной и ветровой генерации — её
фундаментальная нестабильность. Солнце светит только днём, причём его
интенсивность зависит от погоды и времени года. Ветер дует, когда ему
вздумается, а не по расписанию энергетиков. А датацентр с нейросетями,
как мы помним, требует одинаково стабильной и высокой мощности и в три
часа ночи глухой зимой, и в ясный июльский полдень. Ему нужна так
называемая «базовая нагрузка» — надёжный, предсказуемый и бесперебойный
источник энергии, который не зависит от капризов природы.
Конечно,
можно сглаживать пики и провалы генерации с помощью гигантских
аккумуляторных батарей или гидронакопителей. Но при масштабах потребления датацентров и круглосуточности нагрузки стоимость таких систем хранения энергии становится абсолютно заоблачной,
делая каждый киловатт-час «зелёной» энергии золотым. Строительство систем, способных питать хотя бы один крупный ИИ-кластер на
протяжении всей ночи, обойдётся в миллиарды долларов и потребует
огромных территорий. Экономика такого проекта просто не сходится.
ИИ
нужен другой партнёр — такой же стабильный и предсказуемый, как и его
собственное энергопотребление. И такой партнёр у человечества есть.
Атом: идеальный партнёр для ИИ
Если
задуматься, атомная энергетика словно создана для этой задачи. Её
главный недостаток, из-за которого её не очень любят диспетчеры
традиционных энергосетей, — низкая манёвренность. Атомную электростанцию
сложно быстро «приглушить» вечером, когда люди выключают свет и
электроприборы, или «разогнать» утром, когда просыпаются заводы. Реактор
наиболее эффективен и безопасен, когда работает на постоянной, близкой к
100% мощности. И в мире с суточными циклами потребления — сон ночью,
активность днём — такая негибкость всегда была проблемой.
Именно поэтому, к слову, АЭС так любили и любят строить рядом с крупными, энергоёмкими заводами непрерывного цикла, ослабляющими данный недостаток — или в качестве дополнения к основной генерации, как, например, под Петербургом.
Но
для датацентра она превращается в главное достоинство. Ей и не нужно
маневрировать! Потребление ИИ-инфраструктуры почти не меняется в течение
суток. Оно стабильно, как метроном. АЭС может работать на полную
катушку нон-стоп, 24/7, выдавая идеально ровный график мощности, который
полностью совпадает с профилем потребления её ключевого клиента —
датацентра (или группы датацентров) по соседству.

Более
того, при таком режиме работы атомная энергия становится одной из самых
дешёвых в мире. Основные затраты на АЭС — капитальные: строительство, техническое обслуживание и конечный демонтаж с захоронением. Стоимость самого уранового топлива составляет
лишь малую долю в цене киловатт-часа.
Поэтому, когда станция загружена
на 100% круглосуточно, её колоссальные постоянные издержки
«размазываются» по максимальному количеству произведённой энергии. В
отличие от газовой или угольной ТЭС, где сколько топлива сжёг — столько и
заплатил, экономика АЭС вознаграждает за стабильность.
Так
два «изгоя» современной энергетики — негибкий атом и прожорливый, но
стабильный в своём аппетите ИИ — внезапно могут оказаться идеальными
партнёрами. Их недостатки взаимно компенсировались, превратившись в
синергию.
И да, конечно, вариант «построить датацентр вплотную к старой АЭС» прямо-таки напрашивается — но общей проблемы дефицита мощностей генерации не решает. Но… Что, если пойти дальше?
Отчаянные времена требуют ядерных мер: проект в Теннесси
Теперь
вернёмся к сделке Google. Осознав всё вышесказанное, компания решила
действовать. Совместно с региональной энергетической компанией TVA и
технологическим стартапом Kairos Power они запускают проект, который
войдёт в историю.
Речь не идёт о строительстве
гигантской АЭС. Проект в Ок-Ридже, штат
Теннесси, предполагает возведение малого модульного реактора (ММР)
нового, IV поколения под названием Hermes 2. Он будет поставлять чистую и
стабильную энергию для питания целого кластера датацентров Google в
Теннесси и соседней Алабаме.
Важно понимать, что перед нами прецедент. Технологический гигант, столкнувшись с энергетическим голодом и несостоятельностью существующих сетей, не стал ждать милости от государства или уповать на чудо. Он решил проблему сам, кардинально и смело, инвестировав в самую, пожалуй, противоречивую и пугающую обывателя технологию. Десятилетия атомофобии, подпитываемой катастрофами прошлого и антиядерной пропагандой, отступили перед лицом насущной необходимости.
Малый, модульный, корпоративный
Что
же такое малые модульные реакторы, на которые сделал ставку Google?
Если большая, «классическая» АЭС — уникальный, штучный проект, сравнимый
по сложности со строительством космического корабля, то ММР — скорее
конструктор LEGO в мире атомной энергии. Идея заключается в том, чтобы
не строить каждый раз гигантский реактор с нуля на месте, а производить
ключевые его компоненты (модули) серийно, на заводе, а затем привозить
на площадку и собирать в единую конструкцию. Такой подход радикально
снижает стоимость, сроки строительства и риски ошибок.
Но
главное их отличие — принципиально иной подход к безопасности. Реакторы
старых поколений полагались на «активные» системы: в случае нештатной
ситуации должны были сработать насосы, открыться клапаны, включиться
дизель-генераторы. Человеческий фактор и отказ оборудования могли
привести к катастрофе, что мы и видели в истории. ММР проектируются с упором на «пассивную» безопасность. Их конструкция
такова, что в случае любой аварии, будь то обесточивание или даже
физическое повреждение, реактор глушит сам себя по фундаментальным
законам физики — гравитации, конвекции, теплового расширения.
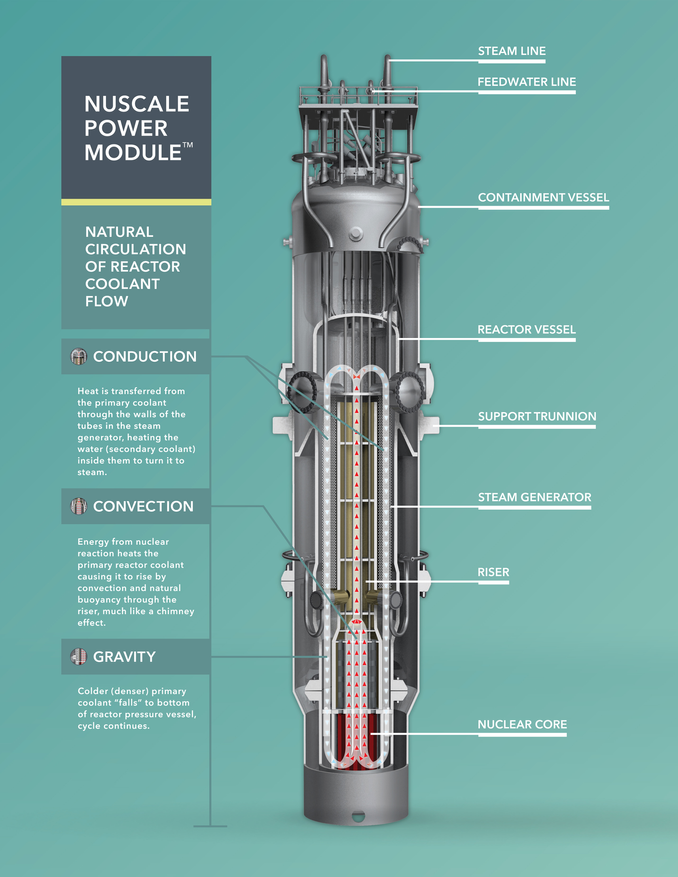
Во многих проектах даже не требуется
принудительное охлаждение активной зоны — она остывает
сама за счёт естественной циркуляции теплоносителя. Реактор безопасен по своей природе… Ну, насколько вообще может быть безопасна техника — то есть при отсутствии некачественной сборки, запроектной аварии, внешнего воздействия или иного не-инженерного фактора.
Именно
такая философия снимает многие страхи, связанные с «большой» ядерной
энергетикой. Малый, серийный, с пассивной безопасностью — такой реактор
становится идеальным решением для локального, корпоративного
энергоснабжения. Его можно построить относительно близко к потребителю, будь то
датацентр, завод полного цикла или удалённый посёлок, обеспечив его чистой и
сверхнадёжной энергией на десятилетия вперёд.
Новые энергобароны: кто будет владеть энергией будущего?
А
теперь предлагаю немного поспекулировать. Заглянуть за горизонт. Что будет дальше? Если прецедент
Google окажется успешным, — а все предпосылки к этому есть, — не увидим ли
мы в ближайшие десять лет, как Amazon, Microsoft, Meta (признана экстремистской, запрещена в РФ) и другие
техногиганты начнут, словно грибы после дождя, строить собственные малые
АЭС по всей стране для питания своих ИИ-империй?
Корпорации
из Кремниевой долины, нагоризонте десятилетий, вполне могут превратиться из крупнейших потребителей энергии в
её производителей. Получить полную энергетическую независимость от
стареющих государственных сетей, колебаний цен на газ и капризов погоды. И, наконец, завершить «пирамиду» вертикальной интеграции, о которой
промышленники прошлого могли только мечтать: когда компания владеет и данными,
и алгоритмами для их обработки, и источником энергии для питания этих
алгоритмов.
Увидим ли мы новый мир, где самые могущественные
компании планеты будут контролировать не только информацию, но и атом?
Мир, где обладание собственным ядерным реактором станет таким же
атрибутом технологического лидерства, как сегодня — обладание передовым
чипом или облачной платформой? Вопросов пока больше, чем ответов, но
вектор движения уже задан. Уж прошу простить за эту маленькую спекуляцию:)
Заключение
Нейросетевая
революция, обещавшая нам дивный новый мир, поставила западный мир перед
неудобным фактом: для следующего технологического рывка нужна энергия.
Очень много энергии.
Старые, изношенные электрические сети,
унаследованные из прошлого века, просто не справляются с таким
аппетитом. Модные «зелёные» источники, при всех их достоинствах, не
подходят по своей природе — они нестабильны и не могут обеспечить ровную
базовую нагрузку, необходимую серверам 24/7. Строить же новые ТЭС на
ископаемом топливе — дорого, неэкологично и рискованно из-за
волатильности цен на газ и уголь.
И
в этой, казалось бы, безвыходной ситуации атомная энергетика, списанная
многими со счетов, внезапно оказалась самым логичным и эффективным
решением. Её «недостатки» обернулись преимуществами, а новые технологии
малых модульных реакторов обещают решить проблемы безопасности и
стоимости, преследовавшие отрасль десятилетиями. Вот такой вот… Парадокс, однако.
Изображение в превью:
